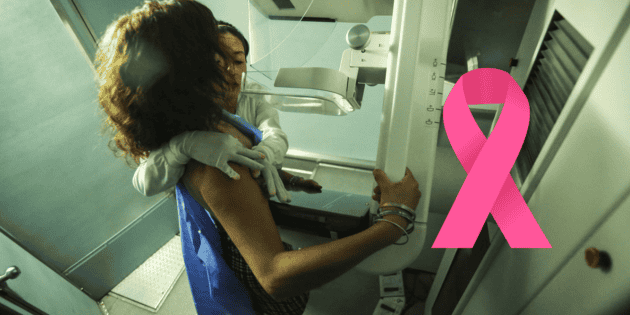Вот так засуха проникает на половину поверхности Земли.

Все началось в 1996 году, когда количество осадков было ниже, чем в предыдущие годы. Количество осадков не восстановилось в 1997, 1998 и 1999 годах. Фактически, оно продолжало снижаться, и в 2006 году, десятилетие спустя, достигло исторического минимума. В Австралии это известно как засуха тысячелетия, и это был эпизод самого большого водного стресса с тех пор, как европейцы прибыли на континент. Производство хлопка, например, упало почти на 70%. В Мельбурне, столице наиболее пострадавшего штата, который раньше пил из водохранилищ, им пришлось перерабатывать сточные воды и устанавливать опреснительные установки. Для ученых это был тип засухи, который раньше случался каждое столетие, а теперь становится более частым, подпитываемый изменением климата: события, пока они длятся, могут поставить под угрозу стабильность целого общества или экосистемы. Теперь глобальный эксперимент проанализировал, как критические экосистемы реагируют на экстремальную, длительную засуху.
Журнал Science публикует результаты четырёхлетних экспериментов по измерению количества осадков на сотнях участков, расположенных в 74 экосистемах по всему миру. Они были проведены в луговых, кустарниковых и кустарниковых экосистемах, таких как равнины американского Среднего Запада, аргентинские пампасы, средиземноморское побережье, луга Центральной Европы и сибирские степи. Эти типы экосистем покрывают 45% поверхности Земли, поглощают 30% углерода и имеют жизненно важное значение как для животноводства, так и для сельского хозяйства, а также для бесчисленных видов. В проекте, спонсируемом Университетом штата Колорадо, участвуют более 170 учёных из 100 организаций. Он получил название «Международный эксперимент по засухе» (IDE). Ничего подобного ранее не проводилось.
«При борьбе с засухой мы размещаем на участках прозрачные метакрилатные желоба, которые частично перехватывают дождевую воду», — объясняет Рома Огайя, исследователь из отдела глобальной экологии CREAF-CSIC и руководитель IDE, установленного в Эль-Гаррафе, провинция Барселона. Этот район представляет собой типичную средиземноморскую кустарниковую местность, и с 1999 года здесь изучают влияние ограничения воды на первичную продуктивность, то есть на растительность. Цель эксперимента — вызвать реакцию экосистемы на засуху настолько сильную и экстремальную, что она случается лишь раз в сто лет. В данном случае они предотвращают попадание 40% осадков в почву, «что эквивалентно 18%-ному снижению влажности почвы, что, согласно прогнозам моделей, ожидается в ближайшие десятилетия в связи с изменением климата», — объясняет Огайя.
Биолог Мелинда Смит из Университета штата Колорадо возглавляет проект IDE и координирует эксперимент. Наиболее экстремальное событие определяется для каждого участка на основе среднегодового количества осадков за исторические годы, определяя самый сухой год за столетие. «Хотя исторически статистические данные свидетельствуют о том, что осадки такого масштаба происходили раз в 100 лет, с изменением климата ожидается, что подобные события будут происходить чаще, хотя частота варьируется в зависимости от участка», — говорит Смит, первый автор исследования.
Вариабельность реакций – первый результат данного исследования. Экосистемы настолько разнообразны (от саванны Серенгети до вечной мерзлоты Сибири), что по-разному реагируют на засуху. Например, луга Пиренеев хорошо переносят ограничение полива. Там Пиренейский институт экологии (IPE-CSIC) содержал несколько участков, участвовавших в исследовании. Хотя они также ограничили полив на 40%, воспроизвести экстремальную засуху в первые три года не удалось из-за обильных осадков. Только на четвёртый, последний год эксперимента им удалось это сделать.
«Это горная местность с влажными пастбищами, которые обычно поддерживаются за счёт скотоводства, в конце градиента экосистем, которые мы изучали», — говорит Иоланда Пуэйо, старший научный сотрудник Института природопользования и руководитель эксперимента в Пиренеях. Там, после трёх лет умеренной засухи и одного года экстремальной засухи, «мы не обнаружили снижения первичной продуктивности, но увидели различия в зависимости от вида; например, биомасса бобовых снизилась, хотя общая биомасса осталась прежней», — подчёркивает Пуэйо.
Однако Пиренеи находятся на самом влажном конце выборки. На всех 74 участках исследователи обнаружили, что в целом всего одного года экстремальной засухи достаточно, чтобы вызвать хаос: в среднем первичная продуктивность снижается на 29%. При отсутствии экстремальной засухи экосистема акклиматизируется, словно привыкая к дефициту воды. Ситуация меняется, если засуха затягивается. Они наблюдали, что после третьего года экстремального водного стресса потери зелёных насаждений увеличиваются в среднем до 77%. Снижается не только количество зелёных насаждений, но и их качество, а также снижается видовое разнообразие. Это также влияет на другие основные элементы экосистемы, такие как биологическая корка и питательные вещества в почве.
Одно из самых заметных преобразований произошло на ферме «Эль-Эспарталь» в Сьемпосуэлосе. Ферма расположена в самом засушливом районе Мадридского сообщества и уже 10 лет проводит там эксперименты, вызывая экстремальные засухи, подобные засухе «Миллениума» в Австралии. «В Сьемпосуэлосе довольно необычные условия», — говорит Ана М. Санчес из Института исследований глобальных изменений климата при Университете короля Хуана Карлоса и руководитель исследования в Эль-Эспартале. Помимо того, что ферма находится в полузасушливом районе, «почва — это гипс, а гипс — это соль», — вспоминает Санчес. Это очень засоленный субстрат, и когда идёт дождь, соль растворяется практически до рассола. «Мы оказываемся с гораздо более высокой концентрацией соли, чем в тканях клеток растений. Поэтому естественное стремление растений к потере воды. В те редкие моменты, когда есть вода, растению приходится изобретать способы, чтобы предотвратить её утечку», — объясняет она.
Под слоем метакрилата дождей выпадает на 45% меньше, но предполагалось, что, поскольку растения привыкли к столь экстремальным условиям, они пройдут испытание. «Но при постоянном поддержании засухи мы наблюдаем снижение численности популяции», — объясняет Санчес. Годовой ритм этих ландшафтов начинается осенью, когда семена прорастают, цветут и зеленеют с весенними дождями, а летом увядают, оставляя новые семена под жёлтой сухой землей, чтобы цикл мог начаться снова следующей осенью. «Мы видим их всё меньше и меньше; взрослые особи умирают, а замены им не найти», — заключает он.

В эксперименте участвует и четвёртый участок в Испании. Он расположен в Айоре, к юго-западу от Валенсии. «Помимо контрольного варианта и экстремального (80% исключения) исключения, у нас есть промежуточный вариант (-40% осадков) исключения и ещё один вариант орошения в определённые периоды лета. Это позволяет нам поддерживать постоянный градиент доступности воды, даже в самые засушливые годы», — объясняет Алехандро Вальдекантос, исследователь из Университета Аликанте и руководитель IDE.
Несмотря на то, что они потратили почти девять лет на борьбу с дождём, они не наблюдали снижения первичной продукции или ухудшения биоразнообразия. «Это очень устойчивая экосистема. Средиземноморские экосистемы лучше всего переносят такие экстремальные засухи», — объясняет он. Это не означает, что кустарниковые заросли Айоры невосприимчивы к ним. Они наблюдали изменения в важных экологических процессах, таких как рост корней, разложение органического вещества и разложение листового опада, что снова делает питательные вещества доступными для растений. «Мы опасаемся, что в какой-то момент всё это рухнет», — заключает Вальдекантос.
Фернандо Т. Маэстре — один из ведущих мировых экспертов по засушливым экосистемам и процессам опустынивания . Исследователь из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия) подчеркивает важность первичной продукции: она является основой всей жизни в наземных экосистемах: «Это энергия, которую растения поглощают от солнца и преобразуют в органическое вещество. Если экосистема теряет часть этой продукции, например, во время засухи, страдает вся экологическая цепочка. Меньше пищи и среды обитания для травоядных животных, почвы теряют углерод и плодородие, а экосистемы хранят меньше CO₂, что также влияет на климат». По мнению Маэстре, также соавтора исследования Science , работа показывает, что если засуха умеренная, многим экосистемам удается акклиматизироваться. «Но если засуха экстремальная и продолжительная, экосистема не восстанавливается, а скорее постепенно деградирует».
Что произойдёт, если экстремальная засуха продлится дольше четырёх лет, отведённых Международным экспериментом по засухе? Смит, руководитель международного проекта, вспоминает случай с участком в её родном штате Колорадо: «Мы наблюдали опустынивание с сокращением надземной биомассы на 98%, гибелью многолетних трав, резким сокращением корневой биомассы и значительным изменением структуры почвы. Даже после трёх лет восстановления многолетние травы всё ещё не восстановились». Поэтому, заключает она, «существует вероятность того, что эти точки невозврата могут быть превышены, с последующим коллапсом экосистемы и возможным опустыниванием». И из пустыни нет пути назад .
EL PAÍS